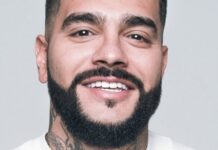Как песчинка может стать философской глыбой Поделиться
«Поля-двойники». Так называлась книга стихотворений Геннадия Айги, изданная в 1987 году. На обложке небольшого сборника опубликована иллюстрация друга поэта – Игоря Вулоха, чье творчество стоит особняком в плеяде его современников, художников-шестидесятников. Работы Вулоха на грани абстракции и фигуративности: в цветовых или черно-белых полях угадываются вполне конкретные образы природы, однако сам цвет и форма производят большее эмоциональное впечатление, чем полускрытый сюжет. К 85-летию со дня рождения художника, в котором еще в юности учителя разглядели гения, в музейном пространстве Ruarts открылась выставка под названием «Поля-двойники». На трех этажах работы представлены вместе со стихотворениями Геннадия Айги. Рифмы цвета считывал корреспондент «МК».

Игорь Вулох родился в 1938 году и умер в 2012-м. Этот проект, пожалуй, самый масштабный в его прижизненной и посмертной биографии. Выставку открывает непривычная для Вулоха небольшая работа. Перед зрителями коллаж, созданный ещё в 60-е: из вырезок собрана картинка, где маленький мальчик лет четырех задумчиво сидит на диване (сам автор), за его спиной мать что-то делает по дому, на стенах и на полу – его картины. Судьба этого мальчика складывалась непросто с самого рождения. Одно из самых тяжелых переживаний пришлось как раз на тот нежный возраст, в котором Вулох изобразил себя.
Будущий художник родился в Казани – его детство выпало на годы Великой отечественной войны. В 1942-ом отец погиб на фронте, а мать Лидия Александровна тяжело заболела и оказалась в больнице. Игоря отправили в детский дом, где он оставался до конца войны. Позже мать забрала его, но, очевидно, эти несколько лет, проведённые в детском доме оставили в душе будущего художника неизгладимый след.
Вопреки тяжелой военной и послевоенной жизни, в Игоре проявился талант, который был замечен его преподавателями Казанского художественного училища, где он учился с 1953 по 1958 год. Его педагог Виктор Подгурский написал другу художнику Георгию Нисскому в Москву, что у него в группе есть истинный гений, в итоге Игорь оказался в столице. Его пейзаж «Зима» был представлен на Всероссийской художественной выставке в Манеже в 1957 году. А спустя год одна из его работ стала известна на весь Союз – она была выпущена на открытке. Тогда же он попытался поступить в Суриковский институт в Москве, но его не взяли, посчитав, что его… нечему учить.
Однако благодаря протекции Нисского он поступил во ВГИК. 20-летний юноша жил в мастерской «дяди Жоры», как он называл наставника. Нисский впоследствии не раз помогал Вулоху: наставник добился открытия выставки Игоря в Ермолаевском переулке, когда того обвиняли в тунеядстве. Он же познакомил Вулоха с работами художников объединения ОСТ (Общества художников-станковистов), которые оказали большое влияние на юного художника.
– Игорь писал, как академик. Его привезли из Казани как юного гения, – рассказывает его вдова, театральный художник Наталия Туколкина-Охота. – Но в Москве его манера начинает трансформироваться, благодаря знакомству с «другим» искусством. Во-первы, повлиял фестиваль молодежи 1957 года, а во-вторых, его друг Генна Айги устроился работать в Музей Маяковского, где в фондах хранились работы авангардистов начала века. Это знакомство оказало на Вулоха огромный эффект, ведь почти ничего, кроме реалистической понятной живописи, раньше он не видел, а тут такое…
Кстати, Айги попал в Музей Маяковского при драматических обстоятельствах. Он мечтал познакомиться с Борисом Пастернаком, и их встреча состоялась. А когда на писателя начались гонения, Айги выступил его в поддержку, и за это был отчислен из Литературного института. Кое-как устроил на химкомбинат, но то была адская работа, которая не оставляла шансов заниматься поэзией. Узнав о трудностях Айги, композитор Андрей Волхонский помог ему устроиться в Музей Маяковского, где позже вместе с Игорем он сделал несколько выставок «левого искусства» – Малевича, Татлина, Филонова, Матюшина, Чекрыгина, Гончаровой. Сам Вулох в Музее Маяковского официально не числился. Какой-то доход приносили работы, сделанные по заказу Производственного фонда художественного комбината СССР. Денег всегда было в обрез, но он продолжал идти своей дорогой в искусстве.
Три этажа выставки наглядно демонстрируют, какой была эта дорога. Перед нами поля, где пейзажность выдает разве что линия горизонта. У смотрящего есть большой простор для домысливаний и интерпретаций. Другие работы напоминают морские волны, причем белые «барашки» не выписаны, а прокорябаны на холсте. Есть картины, где в фокусе предмет, сущность которого сложно определить: кажется, что перед нами камушек, но ощущается он как философская глыба. Работы Вулоха производят в первую очередь эмоциональный, ментальный эффект. Мощь «тихого» спокойного цвета по необъяснимым причинам вызывает глубокое волнение. Под картинами можно прочитать некоторые цитаты мастера. Вот одна из них: «Меня влекут некие столкновения, но не бурные, влекут противоречия, которые в итоге становятся непрерывной частью выражения вещей». Кажется, в этом кроется ответ на вопрос о том, почему работы художника одновременно успокаивают и вызывают внутреннее напряжение и трепет.
– Искусство говорило им, это была его природа, – рассказывает дочь художника Лидия Вулох. – Он не анализировал то, что делал, никаких манифестов не писал. Но зрители говорят: мы подходим к картинам, и нам хорошо. При том, что у него был тяжелый характер и жизнь, полная лишений.
Да, живопись Вулоха рождалась в противоречии с реальной жизнью и художественным процессом. Получив однажды признание 19-летним юношей, большую часть жизнь он не мог выставляться, ведь искусств на грани абстракции не соответствовало принятому в советское время канону. И все же в узких, понимающих, кругах живопись Вулоха боготворили. Как рассказывает его вдова Наталия, Русский музей предпринимал попытки купить или принять в дар его работы. Сама она влюбилась в работы будущего мужа с первого взгляда.
– Приятель однажды позвал меня на вечеринку, он был сыном однокурсницы Вулоха, – говорит Наталия. – Я пришла, увидела картины на стенах и обомлела. Стояла и не могла сдвинуться с места. Там мы и познакомились. Роман случился позже. Однажды Вулох пришел ко мне, чтобы посмотреть работы, и уже не вышел. В тот вечер в гости зашел поклонник, они долго сидели на кухне, кто кого пересидит, в итоге Игорь победил. Год он совсем не пил, мы занимались другим – любовью. Потом я узнала, что беременна, и сомневалась, оставлять ли ребенка. У меня уже был сын от первого брака, у Игоря – дочь. И мы — два художника без регулярного заработка. Денег вечно не было. И вот пришел Генна Айги, догадался, что я жду ребенка, и убедил меня оставить. Так что он, можно сказать, крестный Лиды.
Работы Наталии тоже есть в экспозиции выставки «Поля-двойники». И в этих театральных костюмах и художественной керамики чувствуется прямая связь с живописью мужа. Произведения представлены рядом, так что пересечения легко считать. Есть на выставки и другие интервенции: работы Айдан Салаховой, Владимира Яковлева, Валерия Генте-Роте, Даниила Антропова и молодого художника О331с ( псевдоним) вступают в диалог с живописью и графикой Вулоха, с одной стороны подчеркивая его самобытность, с другой – выявляя неочевидные связи и влияние теперь уже признанного классика. Есть на выставки и стихи Айги, которые дали название выставки.
Проект условно разбит на три раздела – «Поля-двойники», «Холмы-двойники» и «Время оврагов». Они показывают творчество Вулоха вне хронологии жизни, а скорее разделяют ее по цветовым и эмоциональным секторам. Один из этажей почти полностью отдан белым работам художника: здесь преобладают светлые оттенки. Наталия говорит, что эксперименты с белым шли параллельно с цветными: «То ли он на них отдыхал, то ли набирал энергию». Зритель здесь среди белых полей тоже отдыхает. А финальный раздел показывает яркие цветные и глухие черно-белые работы. Здесь на зрителя накатывает волнение.