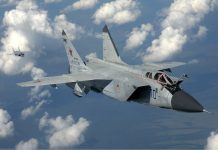«Внутри все время жила мысль – наши выдержат и это» Поделиться
2 января 2022 года исполняется 95 лет великому русскому хореографу Юрию Григоровичу. Все труднее придумывать вопросы, на которые он еще не отвечал за свою нереально долгую и невероятную карьеру, растянувшуюся на семь десятилетий. В честь Мастера в Большом проходит фестиваль: его балеты по-прежнему в репертуаре театров, он незримо с нами, хоть и отошел от дел.

«Никого не осталось из моих любимых близких людей»
– Юрий Николаевич, сейчас такое сложное время, связанное с пандемией, люди в преклонном возрасте вынуждены находиться в изоляции, ограничивать свое общение. Как вы переживаете это время, не одиноко ли вам без театра?
– Да, это общее испытание – нечто совершенно новое в нашем быту, нашем укладе и образе жизни. Поначалу, конечно, был шок – как артисты, ежедневно приходящие в театр на урок для поддержания формы, останутся без класса, педагога, спектакля, наконец. Это казалось концом профессии.
Но внутри все время жила мысль – наши выдержат и это. Люди долга и дисциплины, причем, внутренней, их не надо понукать. Это дело их жизни.
И я был так счастлив, когда после снятия первых ограничений спектакли пошли и артисты вернулись на сцены. И как бы заделали брешь, роковой перерыв в своем репертуаре. Все удержались на высоком уровне. Это наполняет меня надеждой на свет в конце туннеля. Во всяком случае, балет подтвердил свою исторически известную способность через сохранение формы и Школы сохранять искусство. Браво – им всем и их педагогам!
– Вы, наверное, имеете в виду послереволюционное время, когда две главные труппы академические труппы стояли на грани распада, а потом и военные годы, когда Ленинградский Кировский театр и вашу Вагановскую школу эвакуировали?
– Да, именно. Я это время помню подростком. Часть пути в Пермь пролегала по реке Белой, через Уфу – все загадочно и романтично. И мы с группой ребят решили сплавляться на плоту – на фронт, сразу были пойманы патрулем и, получив подзатыльников, возвращены к месту пребывания.
Спустя десятилетия Уфа стала для меня желанным местом – я поставил там много спектаклей, мы дружим с ними, аукаемся по телефону. Эвакуированные ленинградские дети жили в большом зале Молотовского клуба милиции, а артисты Кировского – в семиэтажной гостинице «Центральной». С нами так работали, что мы чувствовали себя настоящими артистами.
Мы стали участниками мировой премьеры балета «Гаянэ» Арама Хачатуряна. Там я его впервые и увидел. То есть шла жизнь наперекор всему – голоду, продуктовым карточкам, тяжелым потерям на фронте. Страстное желание работать, не оставлять балет владело всеми. Вести о Ленинграде переживались сообща – что с городом, с театром, с теми, кто остался, когда мы вернемся…
– Вы уроженец Ленинграда, как и Галина Сергеевна Уланова, тосковавшая в последние годы по Петербургу. А у вас есть ностальгия по ленинградскому прошлому?
– Я хорошо понимаю, о чем речь – по чему тосковала Галина Сергеевна. Тоска по месту связана с годами молодости и с ее переживаниями. Но вернуться в город, где все изменилось и думать, что повернул вспять самую жизнь, – это очень наивно. Стараюсь не задумываться на эти темы. Хотя бывают моменты пронзительные. Несколько лет назад я приезжал в Мариинский театр на постановку «Каменного цветка» и меня поселили в театральный дом рядом с театром. Подхожу к подъезду, открываю дверь, поднимаюсь к квартире – о, Боже! – да это же первое жилье Симона Вирсаладзе. Здесь он жил, и мы собирались, обсуждали эскизы нашего первого балета.
Через полвека я иду теми же ступенями, будто к нему – заниматься «Каменными цветком», чтобы передать его новому поколению артистов Мариинского. Как тут не волноваться!
– Сейчас, глядя назад с высоты прожитого, и оценивая прошлое, много ли в вашей жизни было ситуаций, или принципиальных решений, о которых вы жалеете, хотели бы изменить? И сейчас бы приняли совершенно другие решение?
– Конечно, принял бы другие, а какие-то остались бы неизменными. Наши поступки очень конкретны – как единственно верные сценические решения. Они связаны со временем, с ситуацией. Нельзя выпрыгнуть из «предлагаемых обстоятельств». Можно пытаться изменить их, это я делал часто, во всяком случае, пытался повернуть их на пользу делу, труппе, театру. А сегодня иные правила, иной контекст, наверное, я бы и поступил иначе. Но важно, чтобы поступки наши все же не были бы непозволительно компромиссны. На то они и поступки, через них мы раскрываем убеждения.
– А если говорить о людях – есть ли такие, встреченные вами, с которыми вы никогда бы не хотели связываться?
– Это как раз просто – не хочу и не связываюсь. Проблема отношений для меня не в том, чтобы с кем-то не встречаться. А в том, что мне не с кем уже встречаться – никого не осталось из моих любимых близких людей, собеседников, кому я мог позвонить и был уверен, что меня выслушают и поймут. Просто посидеть за разговором, понятным одним нам, доспорить, досказать прерванное. Я это любил. Правда, редко удавалось. Ни на что кроме театра времени не оставалось, он поглощал полностью.
Такое впечатление, что вошел в него ребенком в 1940-х годах и вышел седым старцем в следующем веке. Правильно говорится о роскоши человеческого общения. Этот вид роскоши, к сожалению, утрачивается.
«Я не люблю быть прорицателем и предсказывать будущее»
– Об утратах. С вами связан период, называемый «золотым веком Большого театра». Как вам кажется, он уже закончился? Позволяют ли ваши оценки состояния отечественного балета уверенно говорить о его будущем?
– Ох, как я не люблю быть прорицателем и предсказывать будущее. Я всегда жил настоящим, хотя прошлое в нем присутствовало активно. Культура прошлого, особенного балетного для меня всегда была важнейшей составляющей, я соотносил с ней нормы профессии и красоты. Но гадать о том, что будет завтра я совершенно не умел и не хотел. Мне было проще организовать завтрашний день, ближайший месяц, год, сезон.
Я ставил в Софии в те годы, когда была в большой моде Ванга. К ней было паломничество. В знак особого уважения мне предложили устроить с ней встречу. И я с благодарностью отказался. Вполне сознательно. Я сам хотел делать и делал свое будущее. Я и так знал, что оно прекрасно – работаю в профессии, руковожу первым театром мира, каждый день встречаюсь с потрясающей труппой, мировой успех, уважение… Поддерживай все это – вот и будущее. А если бы она сказала, что Наташа (Наталия Игоревна Бессмертнова (1941–2008), русская балерина и супруга. – П.Я. ) уйдет раньше меня, как бы я с этим жил?
Сегодня могу уверенно говорить о труппе Большого театра – они все прекрасны! Подготовка, школа, стремление состояться, – все при них. Я знаю, они много работают, не ждут ролей, сами заботятся о своем репертуаре, меньше привязаны к театру, больший выбор возможностей (с поправкой на пандемию). При активном стремлении к разнообразию понимают свое предназначение как артистов классического танца. Дай Бог, чтобы у всех все сложилось. Тогда и будущее балета в целом будет обеспечено.
– Многие артисты, на которых вы ставили свои балеты, не совпадают со стандартами сегодняшних артистов, исполняющих вашу хореографию, что влияет, наверное, на качество танца. А вы — создатель особого героического стиля в советском балете, когда на сцену выходили мужественные танцовщики и делали технически невообразимые вещи. Сегодня иначе, как вы относитесь к изменениям?
– Стоп. Создателями особого героического стиля в советском балете были не хореографы, а артисты довоенного и военного поколения: Константин Сергеев, Борис Брегвадзе, Алексей Ермолаев, Вахтанг Чабукиани, особенно двое последних. Их великолепие сейчас не с чем и не кем сравнить.
Но для моих балетов их понятия «героического» уже не подходило. Мои герои, начиная с 60-х годов, сражались не только на баррикадах, их фронт расширился – они боролись, порой, с непониманием близкого окружения, со своими страхами, сомнениями, фобиями, они впадали в кризис неверия, страстно любя, они отказывались от любви; они, наконец, противостояли третьей безличной силе – метафизическому злу, которое оружием не поразить.
Мне важно сегодня, чтобы исполнители моих балетов, обладающие другими физическими возможностями, понимали эти дальние цели, чтобы их вела не одна техническая задача, чтобы они развивали себя как можно шире – по линии большого смысла и образа. И тогда все будет в порядке.
А изменения в хореографии, конечно, недопустимы, это вам скажет любой хореограф. Или их должен делать сам автор, в крайнем случае, его ассистенты. Я редактировал и не раз свои балеты по линии сжатия смысла, большего лаконизма и видя пред собой новых артистов. Надо сказать, не было случая, чтобы они меня не понимали или не воспринимали мой хореографический текст, меняли или искажали смысловые задачи. Как раз наоборот, были очень восприимчивы – не копируя предшественников, порой, не видя их. Это и есть Школа, общий язык, на котором мы говорим.
– Еще лет 10-15 назад всеобщий интерес в мире балета вызывали мега-звезды. Сегодня крупных имен среди исполнителей не появляется, несмотря на присутствие отличных балерин и танцовщиков в труппах Большого и Мариинского театров, Парижской Опере, Английском королевском балете. Но международную карьеру новые исполнители не делают и в мире мало известны.
– Передвижение артистов стало нормой, они появляются на публике чаще, чем могут показать что-то новое. Понятие уникальности балетного репертуара исчезает – их репертуар стандартизирован. Раньше те или иные хореографические сочинения могли быть показаны только в конкретных труппах и являлись их, и только их завоеванием и особенностью. Сегодня все показывают стилистически примерно одно и то же. Даже, если это поставлено разными авторами. Возникает монотонность вроде бы активного авторского поиска. Да, есть радикальные хореографы, они видны, но вызывают кратковременный интерес. Потому, что не все способны закрепить и развить собственные находки в долгосрочной перспективе, для этого нужно создавать собственный театр. А это не всем дано.
Вот фон, на котором складывается или не складывается чья-то международная карьера. Ясно, что она может сложиться только в условиях стационарной академической труппы – с обширным репертуаром, с постепенным развитием артиста, с ежедневным педагогическим контролем, с международным обменом и т.д.
С другой стороны, не надо так уж сокрушаться по поводу дефицита международного признания – наши все равно лучшие. Тем более, сегодня столько вздора идет на нас из США и Европы, касательно балетных стандартов и новых критериев красоты и смысла. И нам встраиваться в их порядок, стремится заслужить так называемое «международное признание»? Помните, в «Мастере и Маргарите» – «далась им эта бронированная комната…». Далась вам такая международная карьера.
– Среди хореографов – все значительные имена люди в возрасте за 60 как минимум, с чем это связано? Кого из современных хореографов вы можете выделить?
– Неужели за 60? Как быстро летит время… У меня были и есть два любимчика – Джон и Иржик (Джон Ноймайер и Иржи Килиан – П.Я.). Хотя уже тридцать лет, благодаря программе Benois de la Danse, мы ежегодно смотрим новых хореографов. Картина пестрая.
«В «Мастере и Маргарите» меня окрыляло булгаковское таинство воображения»
– Рассказывают, что премьер советского правительства Алексей Косыгин любил вашу «Ангару», и его часто можно было видеть в сталинской ложе. Почему этот нашумевший в свое время спектакль, за который вы и артисты получили Государственную премию СССР, не идет даже в вашей краснодарской труппе?
– Каждый балет имеет историю, и «Ангара» также. Работали с воодушевлением, но не без внутренних сложностей. Пьеса «Иркутская история» Алексея Арбузова становилась балетом, и это означало, прежде всего, обобщение ее реалий. Первую получку Валентины, шагающий экскаватор, рождение ребенка следовало преобразить в поэтический ряд. Так родились образы балета: обретение любви, утрата любимого, большая река, на берега которой пришли люди, желая ее покорить. И она им покоряется – но взамен берет с собой навсегда одного из них. И женщина на берегу смотрит на бегущие воды, уносящие любимого…
Вот что мы замышляли с композитором Андреем Эшпаем, художником Симоном Вирсаладзе и нашими артистами. Жизненная основа пьесы должна соотноситься с бытийным ее планом – иначе это не балет. Оказалось, так не просто перейти от молодежной танцплощадки, быта строителей, от реализма драмы – к абстрактным категориям вечности.
У нас было четыре балерины: Наталия Бессмертнова, Людмила Семеняка, Алла Михальченко и Надежда Павлова. Все сделали замечательные роли. А Люда Семеняка до сих пор считает Валентину одной из своих главных, любимых ролей.
Были в том балете, как я сейчас вижу, подлинная интонация, некий эмоциональный настрой, шедший от человека, его простых, и одновременно сложных душевных переживаний. Мы любили «Ангару», и ничего вульгарного советского, в чем меня потом обвиняли, там не находили. А восстановить его оказалось делом сложным – утрачены костюмы и декорации, сменилось несколько поколений артистов, новым пришлось бы учить все с нуля. В общем, проблематично даже для труппы Большого.
А саму партитуру поставить можно. Мы как-то говорили, что Красноярская балетная труппа могла бы присмотреться к родному для них сюжету и музыке – и вышел бы наш современный балет.
О Косыгине ничего такого не помню, может, и приходил, молодец, милости просим.
– Юрий Николаевич, сейчас резкий всплеск интереса к роману «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. В Большом театре была премьера, за ней постановка канадца Робера Лепажа в театре Наций. В Болгарии роман поставил русский хореограф Василий Медведев. Но вы еще в 70-х годах первым вместе с польским композитором Кшиштофом Пендерецким обратились к «Мастеру и Маргарите». Почему не состоялась премьера, и как вы видели этот роман на балетной сцене?
– Здесь я мало, что могу сказать – да, сразу после первой журнальной публикации хотел ставить, загорелся, начали составлять сценарий с Александром Демидовым. Довели его до заявки в министерство культуры, где на словах все были «за», но, в конце концов, потеряли заявку.
Позже была встреча с Кшиштофом Пендерецким, который, оказалось, знал роман в переводе и был также в него влюблен, и это нас еще больше сблизило. И мы заново начали переосмыслять его. Официальный договор с ним был подписан осенью 1985 г. Мы с труппой продолжали много ездить по миру – по полгода. Работа шла урывками, откладывалась, пока и у нас в театре, и вскоре в стране не началась новая жизнь. В общем, не случилось. Но это нас с композитором не развело. Мы сохраняли добрые отношения и виделись последний раз в 2008 г. в Большом театре на концерте симфонического оркестра под его управлением и после концерта встречались на приёме в польском посольстве.
Я понимал «Мастера и Маргариту» и тогда, и сейчас как русский роман в первую очередь, несмотря на присутствие в нем вечных, вневременных тем и легендарных событий. При этом было ясно, что разные планы необходимо удерживать в сценическом повествовании, их нельзя разъединить без потерь, что-то посчитать главным, остальное второстепенным. В общем, за работой мы все пережили минуты наслаждения текстом и собственными планами – это все, что нам было отпущено в тот раз.
– Остались сожаления?
– Поначалу были. Сегодня на это смотришь с высоты прожитых лет. Меня радует, что сам роман с годами набирает, растет в сознании людей. Мы-то начинали, когда его далеко не все в стране прочитали, и работали с чистым, идеалистическим восторгом. Буквально окрыляло нас булгаковское таинство воображения, эти полеты над печальной землей, соединение жанровой конкретики, всяких примусов – и вечности, юмора – с лиризмом. Хотелось его магию перенести на сцену, – для чего ж она существует. И нас ничего, казалось, не могло остановить.
Если хотите, то была святая вера, что текст поддастся и заиграет на балетной сцене. Да, бывает, обольщаешься собственными мечтами. Не все удается осуществить, сколько ни проживи. Здесь что-то вне нас и не пускает за черту.
Я встречал такие случаи даже у великих композиторов. С Шостаковичем мы говорили о пределах дозволенного – он ведь так и отказался от балета «Дон Жуан», видел в финальной сцене с ожившей статуей Командора заглядывание за некий край.
– Вы говорите о пределе возможностей артиста в балете, в то время как возможности тела и пластики все время расширяются. Сегодняшние артисты делают вещи, невообразимые ранее и, кажется, дошли до какого-то пика и дальше в этом смысле открытия невозможны.
– Да, бывает такое ощущение. На моих глазах прошла молодость и становление наших премьеров – Васильева, Лавровского, Владимирова. Они относительно своих педагогов Ермолаева, Мессерера, Чабукиани прибавляли и сильно техническую составляющую танца – все эти прыжки в «Спартаке», двойные пистолеты в «Ангаре», вращения и накрутки в «Дон Кихоте» и прочая. К счастью, они прибавляли не только технику, они формировали по сути новый собирательный тип премьера, через них шла эволюция мужского героического амплуа в русском балете ХХ в.
Пределы физики тела, конечно, есть. И не надо его искусственно нагружать, лишь бы блеснуть лишним туром. Пределов творческого воображения – нет. И не надо его искусственно сдерживать.
– Юрий Николаевич, известно, что Уланова и в преклонном возрасте делала особую гимнастику. Нет ли у вас каких-то секретов, которыми вы могли бы поделиться, зная, как никто возможности тела танцовщика?
– Да, Галина Сергеевна занималась по индивидуальной методике. Но, понимаете, сохранение формы это, все же сохранение интереса к жизни и профессии. Это посильная возможность соучастия окружающему миру. Вот это бы подольше в себе сохранить нам всем и моим дорогим коллегам по цеху. Всем привет и успехов! Обнимаю и слежу за всеми по телевизору…